События происходят после казни Луи Капета. Революционеры рассуждают о верности решения.
После казни
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться22025-10-20 02:22:26
Дом семьи Дюпле – 4 плювиоза I год.
Целый день Максимилиан ходил сам не свой, пребывая в странных ощущениях. Он был рассеян сильнее привычного, совсем позабыв о семье и еде. И к ещё большему удивлению, он был обеспокоен. Было ли это связано с произошедшим на днях событием — вопрос оставался открытым.
По своей натуре, ныне гражданин заместо месье, Робеспьер нисколько не отличался от людей, что долго не могут наедине совладать со своими мыслями и страхами. Обычно весь поток сознания находил отклик в речах, которые Максимилиан очень трепетно готовил. Сейчас же говорить не хотелось, да и что греха таить, это было не нужно, по крайней мере, в ближайшее завтра.
Рука сама невольно потянулась за пером, а совсем скоро начала выводить знакомое имя близкого друга и верного товарища — Антуана Сен-Жюста.
《Король мертв. Справедливость восторжествовала... Так говорят. Так должно быть. Но почему тогда этот грызущий червь сомнения сверлит мою душу? Мы боролись за республику, за освобождение от гнета. Король был символом этого гнета, воплощением несправедливости. Его устранение было необходимо для того, чтобы Республика могла расцвести, чтобы принципы, за которые мы пролили кровь, могли укорениться в сознании народа. И все же... убив Людовика, не переступили ли мы черту? Говорим о гуманизме, о правах человека, но лишаем человека жизни! Разве акт насилия, пусть и оправданный полит. необходимостью, не противоречит самой сути гуманности? Я понимаю доводы. Король есть символ. Быть может я слишком чувствителен и голос совести шепчет во мне. Право, не знаю. Я чувствую тебя, как близость мыши. Я жду тебя, мелькаю у окошка. Но знаешь, долго так я не осилю. 》
Поделиться32025-10-21 02:14:37
ᅠ"Французская зима нежна", — сказали бы некоторые, хотя сейчас, оглядывая неустойчивость природы и резкие перепады погоды, то радующие внезапной оттепелью, то угнетающие заморозками, хотелось скорее отметить: французская зима бестолкова.
ᅠПлювиоз, — месяц дождя, — был месяцем переменчивым, нестабильным и теперь, когда король был казнён, казалось, что природа разрывалась вместе со стенаниями народа. В одно ухо плакались ей те, кто от прихотей её страдал сильнее всего, земледельцы, фермеры, крестьяне — и она выказывала нежный свой лик, своё ранимое сердце; в другое же, шептали ядовитые речи заговорщики — и она обжигала их своим гневом, неразборчиво; хлёсткой плетью била спины всех, кому не повезло попасться под горячую руку.
ᅠСен-Жюст в вопросе капризов природы был беспристрастен; он (да и никто) не владел ею и уважал стужу не менее тепла. То был естественный порядок вещей, прекрасный в своей первозданной форме, и хотя Сен-Жюсту было известно, что на юге Франции зима того теплее, и, быть может, ему бы даже было интересно хоть раз там побывать, — любопытство молодости, — долг гнал его дальше на север и теперь, когда он полноценно посвятил себя армейскому вопросу, казалось, будто высылка его на миссию неотвратима. Он не относился к этому, как к чему-то плохому, лишь только работы было ещё достаточно, а времени, день ото дня, всё меньше — но смерть тирана наконец свершилась, эта долгая изнурительная процессия подошла к своему логическому завершению и, кажется, даже сам мир ненадолго остановился, замер в оторопи изумлённого человека, застывшего с немым вопросом на своих губах: "Была ли то добродетель или, может быть, уже террор?"
ᅠЗастывший мир играл ему на руку: Сен-Жюст уже готовил речь к следующему собранию, которое должно было состояться 28 января, — 9 плювиоза, — но мог ещё довольствоваться некоторым количеством свободного времени, как раз достаточного, чтобы, условно, поддержать переписку — ни о какой праздности и речи и идти не могло; то было не то время и совсем не тот человек.
ᅠПисьмо от Робеспьера сначала было обрадовало его, затем — смутило, на какой-то короткий момент почти возмутило, но, в конце концов, вызвало скорее печаль, чем раздражение. К нему обращалось чистое, чувственное сердце, чурающееся жестокости; отголосок молодого депутата Генеральных штатов, неприемлющий саму идею смертных казней даже в отношении тех, кто однозначно её заслуживал. Антуан тяжело вздохнул, когда коснулся кончиком пера бумаги, будто мог отпечатать своего дыхания на шершавой поверхности, и принялся писать:
ᅠ"Дорогой друг!
ᅠМне ясны источники твоей печали, но совершенно чужды любые идеи выказывания сожаления королю, этому узурпатору и врагу народа. Мне казалось, что в своих речах я точно объяснил, почему мы не должны скорбеть по Людовигу и что не может быть у нас с сувереном компромисса. Монархия так долго отравляла наши жизни, что пощадив её в момент, мы бы предали самих себя; вверили судьбы свои обратно в руки тиранов и преступников. Ты говоришь о смерти человека, как о смерти любого другого доброго гражданина, но я предпочёл бы слёзы проливать над санкюлотами, где дети не могут позволить нового пальто во времена холодной зимы, нежели над богачом, рисующему из себя великомученика. Ты говоришь о смерти невиновного, но я взываю тебя к уму — не уничтожь мы змеи, её ядовитые клыки сразили бы гораздо большее число несчастных людей; вот, о чьей смерти идёт речь.
ᅠПрошу тебя, не изводи себя сожалением к тому, кто сам сожаления не знал — это пустое.
ᅠБыть может, личная беседа развеет твои терзания? Я мог бы У меня найдётся времени для тебя. Если пожелаешь — я приеду, лишь дай мне знать. И даже если нет, я всё равно заверяю тебя отвлечься от вопроса. Обнимаю тебя и наших общих друзей.
Сен-Жюст.
ᅠЕщё раз: милосердие — это прекрасно, но только не тогда, когда суть его в угнетении себя".
Отредактировано Луи Антуан Сен-Жюст (2025-10-22 16:32:37)
- Подпись автора
Самому молодому надлежит умереть и тем доказать своё мужество и свою добродетель
Le plus jeune doit mourir et ainsi prouver son courage et sa vertu.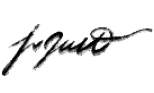
Поделиться42025-10-21 22:05:37
Депутату Национального конвента, члену КОС Луи Антуану де Сен-Жюсту
"Мой милый друг!
Пожалуй, мне стоит начать с благодарности за столь скорый ответ и, что я не мог не заметить, обеспокоенный тон. Говорю тебе спасибо от всего сердца за прямоту и трезвый рассудок, в котором многие, быть может, и я, но не суди меня раньше времени, так нуждаются.
В прошлом письме я был довольно груб, и мне следовало бы впредь быть внимательнее. Думаю, ты решил, что я был к тому же до безобразия двуличен — что мне так же вовсе не свойственно.
Ты пишешь о долге. О змее, которую необходимо раздавить. Ты прав, тысячу раз прав, мой друг. Разум мой соглашается с каждым твоим словом. Да, Людовик был узурпатором. Да, монархия — это яд. Да, слезы должны литься за санкюлотом, а не за королем. Ведь милосердие к тиранам и есть жестокость по отношению к народу.
Но в тот злополучный день, когда было написано прошлое письмо, мною двигали совершенно другие чувства, нежели жалость к, как ты выразился, «невинному». Разве можно жалеть того, кто носил пурпур, пока голодные матери смотрели с надеждой? Иногда, в тишине кабинета, эта железная логика даёт трещину, и сквозь неё проглядывает простой ужас смертного перед небытием. Я думал о Жизни. О той самой, что течет в тебе, во мне, в ребенке из предместья, в последнем солдате на фронте. О той самой, что мы отнимаем во имя спасения. Мы поступаем как должно. Как необходимо. Но если мы однажды перестанем чувствовать тяжесть этого груза, если смерть врага будет вызывать в нас лишь холодное удовлетворение, а не горькую необходимость, — кто мы тогда будем?
Прошу, приезжай. Мне нездоровится. Наверное, всё дело в мигрени, хотя и Шарлотта, и Дюпле советуют всё те же решения. Жду нашей встречи. Говори со мной снова твёрдо — твоя уверенность есть опора в эти дни, когда почва под ногами кажется зыбкой.
М. Робеспьер"
Поделиться52025-10-22 18:00:28
ᅠСледующее письмо дошло до Сен-Жюста, кажется, того быстрее предыдущего. С курьером они пересеклись на пороге дома — юркий, спешный и будто бы смущённый, он взволнованно сунул телеграмму в руки так вовремя (вовремя ли?) явившегося жильца и немедля скрылся, словно не было его. Антуан не успел произнести ни слов благодарности, ни подметить странного поведения — дискомфортное чувство догнало его уже потом, когда почтальона и след простыл. Сен-Жюст нахмурил брови, споткнувшись о неудобную мысль о том, что источником чужой стремительности могла послужить должность, занимаемая ныне получателем, — или, возможно, не столько должность, сколько персональное отношение человека к этой должности, — но он предпочёл эту мысль не развивать, фокусируясь на объективной реальности, нежели на сомнительных предположениях и догадках. Если не считать этого инцидента, то день проходил спокойно и без лишних тревог, и, когда глаза Сен-Жюста подметили имя адресанта, он даже позволил себе прозрачно улыбнуться, мысленно приветствуя доброго товарища.
ᅠРадость от полученной весточки вскоре сменилась лёгкой печалью от её содержания: Робеспьер, разумеется, поднимал вопросы восхитительные и любопытные, и Сен-Жюст не был из тех, кто постеснялся бы поучаствовать в дискуссии, — но Максимилиану нездоровилось и он, вместо того, чтобы позволить себе передохнуть, поймать дыхание в кратком моменте разгруженной недели, предавался душевным терзаниям. Антуан невесело подумал о том, что, возможно, единственным способом наверняка отвлечь своего друга от тревог послужил бы плотный рабочий график, не дающий ему возможности лишний раз изводить себя, но эта идея отправилась туда же, куда ранее отправилось размышление о расторопном курьере — на самые далёкие и тёмные закрома сознания.
ᅠПервой идеей Сен-Жюста было написать что-нибудь в ответ и он уже было потянулся к чернильнице, прежде, чем одёрнуть себя. Если никакие обстоятельства не отвлекут его от визита к Робеспьеру, то он явится к нему уже завтра с утра; если он будет занят с утра — то днём или даже совсем к вечеру; в худшем случае — через день. Что толку переводить бумагу, если можно обсудить всё в живом диалоге? Он не готовил речей для личных встреч и не пытался возвести дружбу в образ рабочих отношений, следовательно, не нуждался и ни в каких шпаргалках для грядущего дружеского визита. В конце концов, если рукам так неймётся что-нибудь написать — лучше уж направить свои силы на что-то полезное, никак не на пустое словоблудие.
ᅠ"Какова хладнокровность!", — пожурил Сен-Жюста внутренний голос: "Вот так теперь мы чтим друзей — ни единым добрым словом в ответ?"
ᅠВоистину: кто мы тогда будем?
ᅠ"Ну, полно...", — одёрнул он себя же, спустя несколько долгих минут сомнений: "Большая часть того, что делает нас счастливыми, неразумно. Я уверен, что смогу развеять заблуждение — Робеспьер в этом уверен тоже. Не будем боле об этом... пока".
ᅠИ он отложил письмо в сторону, лишь ненадолго задержавшись взглядом на его строках ещё раз. Будем чисты, будем великодушны, будем мудры — мы поступаем, как должно.
ᅠВпереди Сен-Жюста ждала, в первую очередь, его собственная работа.
- Подпись автора
Самому молодому надлежит умереть и тем доказать своё мужество и свою добродетель
Le plus jeune doit mourir et ainsi prouver son courage et sa vertu.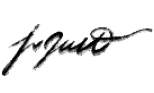
Поделиться62025-10-26 12:00:31
Это правда, что даже заплеванный утренним ливнем Сент-Марсель не может поколебать патриотизм истинного друга французского народа. А Эбер таковым быть стремился. Чулки промокают насквозь -- он будто шагает по праведной крови; под ноги летит холодный навоз -- глаза слезятся от обиды за униженную жизнь простого человека; деревянные стены улицы нависают над ним, неестественно прогибаясь от тяжелой гнили -- враги революции окружают его! Да, он не лишен романтики. Слуга народа греет под сюртуком несколько страниц.
Неделя с казни короля и Робеспьер перестает появляться в Конвенте. Кажется, несмотря на всю свою политическую свирепость, он остается быть похожим на того бледного и хилого депутата от Артуа. Внимательный взгляд мог заметить, как, давая речи, он уже перестал краснеть до ушей, но все так же покачивался, сходя с трибуны. Впрочем, Эбер то принадлежал к числу граждан, которым долгожданная месть справедливо придала духа. В нем кипело больше крови, чем за весь последний год; в мании, он кидался к растерзанию то врагов, то недавних друзей. И теперь, после трех недель постыдного бегания за Максимильеном по каменным залам, морозящим места деликатные, под угрожающим сверканием глубоких глаз его двадцатишестилетней шавки, он обязан добиться сотрудничества, даже если ему придется навестить Неподкупного лично.
Когда он добирается до центральных улиц дождя уже нет. Светло так, как редко здесь бывает зимой. И будто на кого-то из толпы свет падает по-особенному. Это серьги так блестят?
Хмурость пропадает с лица Эбера, человека от природы не очень выразительного, и вместо нее -- ухмылка, почти театральная страсть. Выученный тон, и может... подсознательное желание подражать Марату.
"Гражданин Сен-Жюст, неужели мы идем в одном направлении!"
Поделиться72025-10-28 03:00:06
Без солнца, под свежим дыханием близкой ночи, местность казалась неприветливой и холодной; во все стороны раскидывалось серое поле с низенькой, словно притоптанной травой, глинистыми оврагами, буграми и ямами. Ям было много, глубоких, отвесных и маленьких, поросших ползучей травой; в них уже бесшумно залегала на ночь молчаливая тьма; и то, что здесь шумели когда-то деревья, а теперь они неподвижно стояли, делало местность еще более удрученной. Там и здесь, как сгустки лилового холодного тумана, вставали рощи и перелески и точно выжидали, что скажут им заброшенные ямы вокруг.
С каждым шагом двигалась, нехотя, темная туча и бросала прозрачную, осторожно прилегающую тень. На распертых боках тучи тускло просвечивали желтые мёдные пятна и светлыми, бесшумно клубящимися дорогами скрывались за ее тяжелой массой. И тьма сгущалась так незаметно и вкрадчиво, что трудно было в нее поверить, и казалось, что все еще день, но день тяжело больной и тихо умирающий.
Впереди, из сгустка наступившего мрака, возникла маленькая фигура. Мальчик, сидящий на корточках у края борозды. Он что-то чертил пальцем по земле, его лицо тонуло в тени, но в его сгорбленной спине, в наклоне головы было что-то до мучительности знакомое.
— Максим? Это ты? — прозвучал ехидный голосок.
— Что ты здесь делаешь? — попытался спросить Робеспьер, но голос его был предательски тих.
— Играю, — ответил мальчик, и в его тоне сквозила неестественность. — Интересно, правда? Один брат, другой брат... Если делаешь доброе, то не поднять ли лица?
Робеспьер попытался что-то сказать, но язык не повиновался, будто присох к нёбу. В висках стучало, напоминая о невыносимой боли, что преследовала его последние дни. Он чувствовал тошнотворную слабость, лихорадочный жар, пожиравший его изнутри.
— Твой папаша-авелит, все ещё в Мюнхене? — продолжал мальчик, и его невидимое лицо, казалось, кривилось в усмешке.
И в тот же миг на светлой рубашке мальчика, прямо над сердцем, расплылось черно-багровое пятно. Оно не стекало, а проступало изнутри, как винное пятно на старой бумаге, принимая форму страшной, знакомой каждому раны.
Максимилиан отшатнулся.
Из темноты вышли две фигуры. Одна — Шарлотта, его сестра, с искаженным от ужаса и гнева лицом. Она рыдала, протягивая руки к брату с кровавым пятном.
— Посмотри, что ты с ним сделал! Максимилиан, о Боже, посмотри!
А вторая девушка, бледная и прозрачная, стояла рядом. Она не произносила ни слова, лишь смотрела на него огромными глазами, а потом, закатив их, безвольно рухнула на руки кричащей Шарлотте.
Голоса сливались в один оглушительный гул. Со всех сторон на него надвигались тени. Чьи-то холодные пальцы коснулись его плеча. Рука лежала на нём мёртвым грузом, не позволяя сдвинуться с места. Крики нарастали, превращаясь в сплошной рёв. Тени сжимались вокруг, становясь плотными, физически ощутимыми. Они давили на грудь, вытесняли воздух из лёгких. Он не мог дышать. Мир сузился до вихря обвиняющих лиц, до пронзительного вопля Шарлотты и до чёрного, расползающегося пятна на груди брата, которое теперь было повсюду.
Робеспьер резко сел на кровати. Грудь вздымалась, сердце колотилось где-то в горле. Холодный пот струился по его вискам и спине, пропитывая ночную рубашку. Он судорожно глотнул воздух, глаза привыкали к предрассветному полумраку спальни.
Тишина.
Поделиться82025-10-28 03:37:01
..."Гражданин Сен-Жюст, неужели мы идем в одном направлении!"
Он шёл, облачённый в собственные размышления; стремительного, но словно бы лишённого любой эмоции или чувства, оторванного от общей картины и нарисованного сверху холста чьей-то чужой кистью, вели его ноги, направляло на каком-то автоматическом уровне тело, и лишь душа — а что душа? — казалось, ещё дремала, обезличивая своего обладателя и лишая его всего того, что обычно было присуще человеку. Кто-то, замерев на улице на доли секунды дольше нужного, задержав свой взгляд на чужом силуэте, мог бы счесть его жестоким — но колючий ветер бил Сен-Жюсту в лицо почти всю его дорогу; молодой человек был бледен и холод обжигал его глаза: он моргал чаще нужного, и, наверное, выглядел вот-вот тяжело расстроенным, лишь только в чертах мимики недоставало ему глубины печали — капли дождя на щеках мраморной статуи.
Без пяти минут сомнамбула. Сен-Жюст не заметил обращавшегося к нему человека, или, вернее, заметил, но настолько поздно, что не успел издать ни звука, ни жеста; кратко вздрогнул (то ли от смущения, то ли от удивления), замер, затем сдержанно кивнул объявившемуся внезапно коллеге. Поза его — сперва скованная и строгая, однако, скоро оттаяла и приобрела знакомые заскоки гордости; Сен-Жюст дурно знал Эбера, но с определённым внутренним предубеждением относился ко многим журналистам (Жак не был исключением) и потому, не снисходил до излишнего дружелюбия. Прежде, чем продолжить диалог, он подошёл ближе, но даже после сокращения расстояния, движения не прекратил — двигался так нарочито медленно, чтобы ходьба почти не ощущалась, но, при этом же, чтобы не прерывалась. Антуан не обозначил положений вслух, зато хорошо выказывал их своими действиями:
— Привет и братство, Эбер, — учтиво поздоровался он. — Я совсем не обратил на то внимания. Куда ты держишь путь? Ужели к..?
Он не закончил своего вопроса, позволяя спутнику перехватить слово, но лёгкий прищур его взгляда выказывал что-то ещё, навряд ли уже дружественное (или, быть может, молодой человек вновь пытался выказать себя построже, чтобы считаться внушительнее?). Сияли две холодные льдинки, заострившиеся на чужом лице — так и не скажешь, что менее пяти минут назад Сен-Жюсту приходилось промаргиваться, чтобы избавить себя от наворачивавшихся из-за ветра слёз. В конце концов, на улице стояла зима.
- Подпись автора
Самому молодому надлежит умереть и тем доказать своё мужество и свою добродетель
Le plus jeune doit mourir et ainsi prouver son courage et sa vertu.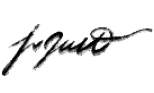
Поделиться92025-10-29 02:29:46
ᅠДождь свалился на предместья и зацентральные районы города. Капли, тяжёлые и стылые, лишь больше раздражали промëрзлую землю, словно оплакивали великую потерю, — но так несмело, так боязно они били по окраинам (лишь изредка доходя до хоть сколько-то приближëнных округов), что едва можно было понять, по чему они в самом деле скорбят... Как бы то ни было, рабочие, ремесленники и прочие парижане, увлечённые очередным уготовленным для них днём, сами несильно стремились размышлять о небесных горестях; да и много ли можно придумать! — плювиоз, месяц дождей, — даже лирики едва осмелились бы воспевать этот печальный день; весь «символизм», вероятно, оставлен был для фанатиков.
ᅠСовсем иначе себя чувствовал парижский центр: хотя услышать пару жалоб от прохожих, коим не посчастливилось оказаться вне дома в ночь, о том, что их в момент застала морось, было не так уж трудно, ближе к утру слова почти лишилась доказательств — лишь кое-где на мостовых виднелись лужицы, подвысохшие, которые и лужицами-то было не назвать; покой в столь ранний час мог нарушать лишь слабый гул, который, нарастая, крепчал с первыми жителями: пока с улиц слышались постукивания каблуков тех мелких служащих, что с важным видом спешили по конторам и бюро, им в унисон пел скрип от половиц и добрые хозяйки, занятые привычной им рутиной. И как изнежен был город этой суетой! По-настоящему упоительное утро для тех, кто этого заслуживает.
ᅠНо вот стук каблуков становится всë звонче, а вместе с ним виднеются и парикмахеры, и служащие, которым судьба благоволила являться на работу позже, и пешеходы — каждый виновен в пробуждающейся суете; хотя не выйти за пределы дома в эти часы порой бывает трудно: вместе с исполненными важности чинами доброго работника, начинали свой день булочные и пекарни (что так приветливо встречали у дверей стоящих за полночь гражданок) и кафе — последние бывали главными жемчужинами улиц. Хотя пресыщенная политикой толпа не прочь была в очередной раз поглазеть на исключительные лица и послушать речи, что так складно лились из чьих-то уст, — подумать только! — находились те, кто заходил сюда по назначению; и хоть напасть на дни грядущие в подобных заведениях казалось делом вполне себе естественным — высказаться желал не каждый, а потому, помимо революционных восхвалителей, улицы полнились и теми редкими людьми, что разносили по мебелированным комнатам утренний кофе, а вместе с тем — и терпкий аромат, окутывающий эспланады, переулки и прочие места, какие только успевали пробуждаться в столь неокрепшие часы; вероятно, посему те лица, что не могли позволить себе приближенных изысков, вынуждены были рассекать по мостовым и довольствоваться манящим ароматом — вокруг или из тëплых помещений — и слушать чужую болтовю, проходя мимо очередного заведения.
ᅠПодобные утренние посиделки не обходили и Дюпле — хотя нечасто, но добрая матушка семейства имела привычку созывать за стол всех после завтрака: на чай; признаться только, сегодня идею подала младшенькая из Дюпле — Бабетта, как её ласково называли домочадцы, в особенности — Максимилиан, который, впрочем был повинен в столь внезапном предложении.
ᅠТак уж вышло, что в силу возраста Элизабет была, пожалуй, самой чувствительной особой из всех других существ, живших с ней под одной крышей — как минимум, так казалось самой Элизабет, — а потому ей, должно быть, первой довелось заметить тот резкий упаднических дух, некстати сразивший её «доброго брата» — несчастного Максимилиана! Ах, как неспокойно было её изнеженное детскими иллюзиями сердце в вечер, когда, вдруг посерьёзнев, тот ласковый, тот горячо любимый ею друг, вмиг отстранился и, словно особняк, держался поодаль что от неё, что от сестёр, родителей и даже «маленького патриота» — невиннейшего Якова! — с такой тяжёлой хмуростью, достойной самого жестокого романа; и даже еды он не касался (хотя, наверное, это последнее, что могло удивить людей, хоть сколько его знавших)! Обидело ли его что-то? Огорчило? Бабетта почему-то побоялась выказать свои переживания. По началу она думала, что могла бы поделиться наблюдениями с матушкой — тогда бы уже та сама выведала у Робеспьера причину внезапно свалившейся тоски, но что-то её засмущало и вскоре она передумала. С печалью на сердце, откланявшись, Элизабет вдруг поспешила сообщить, что отойдёт ко сну — и так как час был ранний, вопросов (в большинстве своём от матушки) о том, не приболела ли Бабетта, было сложно избежать, однако на них та отвечала просто: всё в порядке.
ᅠСудите о печали! — к волнениям о друге, и без того так трепетно терзавшим её душу, теперь ещё прибавилась вина за ложь, нещадно брошенную в домочадцев. Великий Боже, что обрушивает на не расправленные плечи такие грузные страдания! В конце концов, все прения решились просто: едва Бабетте вздумалось сотворить одну значимую глупость с ночными разговорами, она уснула. Вопреки всем ожиданиям, грёзы её были совсем не беспокойными; оно и к лучшему — юные девушки должны беречь свой сон.
ᅠНочные тяготы ей вспомнились лишь утром, за столом, когда, вдруг поглядев по сторонам, она не обнаружила Максимилиана.
ᅠ— Неужто снова пропускает… — сидевшая подле неё мадам Дюпле только качала головой и, опустив руку на ладонь Бабетты, с мягкостью направляла ту к приборам.
ᅠ— Думаю, он заработался вчера. Наш дорогой Максимилиан тратит так много сил... — запнувшись, она торопно кивнула в сторону тарелок. — Ешь. — в ответ Элизабет послушно принялась за завтрак.
ᅠУтро терялось в суете: Морис, назначивший Якова себе в помощники, работал где-то во дворе, Виктория отправилась с матерью на рынок — присматривать картофеля к обеду, — Элеонора же, преданная делу, давно умчалась на занятия. Одна только Бабетта, отказавшая сестре и матери в их вынужденном променаде, была оставлена ответственной за некоторое бельë, а оттого сейчас гладила внизу, в столовой, о чëм-то озабоченно вздыхая, и то и дело поглядывая на пустоватый стол: любезный друг её так и не появлялся.
ᅠИ сколько бы ещё продолжались эти вздохи, пока, немного поразмыслив, Элизабет бы вдруг не покончила с вещами и, поспешив сложить их, не ринулась к старенькому кокемару — вскипятить воды? Порыскав по шкафам и полкам, она достала какой-то коробок — как оказалось, чайницу, — а вместе с ним на стол отправились и кружки; в конце концов, приготовления Элизабет почти не заняли во времени: момент — и вот уже она сама, прильнув к двери маленькой комнатушки, стояла, переминаясь с ноги на ногу.
ᅠРука сама собою потянулась, чтобы постучать: несмело, сначала Элизабет и вовсе думала, как бы ей броситься в бега, но вспомнив о волнениях накануне и озадаченную матушку, другой ладонью она сжала подол фартука и вновь, — уже чуть громче — поколотила в дверь. Ответ, в общем-то, не заставил ждать, но лишь заслышав шорох (шаги то были, или голос — она не стала разбираться), девушка вдруг отстранилась и, обронив короткое: «Пожалуйста, спускайтесь!», даже не дав время на ответ, тотчас сбежала вниз. Судите о её смущении!
ᅠВнизу тем временем уже готов был стол к их с Робеспьером небольшой беседе.
- Подпись автора
Grand Dieu ! et l'on ne meurt pas de douleur.
Поделиться102025-11-01 10:55:00
— Привет и братство, Эбер, — учтиво поздоровался он. — Я совсем не обратил на то внимания. Куда ты держишь путь? Ужели к..?
"К Робеспьеру! Ведь ему нездоровится? – Эбер вскидывает черные брови. – Что ж, если он не может выйти к народу, то народ сам пойдет к нему. Все же это удача, что мы с Вами встретились. Боюсь, одного меня он бы отказался принимать".
Теперь они идут вместе и Эбер пытается завести светскую беседу несколько раз, но на вопросы и о миссии, и о самочувствии Максимильена Антуан отвечает невнятно и прячет взгляд. Эбер тогда думает, что единственный кто вообще хочет иметь с ним дело это Демулен, уже пару месяцев так и рвущийся пособачиться. Черт с ним...
Жака вдруг дергает от собственной фамильярности. В этой улыбке и в этой дистанции. Сен-Жюст рядом с ним – как греческая статуя, с нежной осанкой и вьющимися волосами. Он чувствует, что должен отвернуться.
Дойдя до нужного двора, поднимаясь по ржавеющей лестнице, он неожиданно находит, что волнуется. Или это от холода потрясывает. Он первый стучит в дверь и кивает Антуану.
"Ваш ход".
Поделиться112025-11-03 05:30:15
Пробуждение пришло к Неподкупному не с первой, а лишь со второй, мучительной попытки выплыть из пучины сна. И за эту сомнительную милость можно было бы возблагодарить то самое чудовищное порождение больного воображения, которое со своей задачей, а именно довести сознание до белого каления, до той грани, где мысль уже неотличима от горячечного бреда, справилось едва ли не блестяще.
Ещё глубокой ночью назойливый стук дождя о стёкла вызывал у него раздражение, тупое и монотонное. Но к тому часу, когда сознание окончательно отвоевало себя у кошмара, ливень уже отшумел. Он отступил, оставив после себя промозглый, отсыревший мир: воздух, пропитанный влажной ледяной тяжестью; землю, расползшуюся в липкую, холодную грязь; и нечто белесое, уродливое подобие снега, припорошившее подоконник. Теперь же за окном хозяйничал ветер — неистовый, яростный порыв, вывший в щели рам с таким отчаянием, что даже Максимилиан, всегда погружённый в себя и обычно не замечающий капризов погоды, почувствовал, как ледяная струя просачивается в комнату, заставляя его ёкнуть.
Голова его была подобна раскалённой наковальне, по которой безжалостно били, и новый удар отзывался жуткой трещиной в висках. Всё тело, каждая кость и сустав, ныли и ломили, словно после долгой пытки. Особенно же досталось ногам, что не просто ныли, а горели странным, изнуряющим холодом и болью, которая поднималась от онемевших ступней к коленям и парализующая волю. Они мёрзли до безумной дрожи, хотя он лежал под одеялом.
С огромным, почти нечеловеческим усилием, движимый одним лишь голым инстинктом самосохранения, Робеспьер заставил себя пошевелиться. Действия по-прежнему были медленными, почти машинальными. Взгляд его, затуманенный, упал на небольшой тазик из оловянной жести, стоявший на полу у самой кровати. Внутри, свернувшись мёртвым, холодным лепестком, лежала мокрая тряпица. Недолго думая Максимилиан дотянулся до неё рукой, которая вдруг показалась чужой. Пальцы, холодные и негнущиеся, с трудом ухватили влажную ткань. Он поднёс её ко лбу, к вискам, и на мгновение его пронзила волна спасительной прохлады. Она была острой и на удивление приятно болезненной. Но ощущение длилось лишь миг, после чего влажный холод тряпки растворился, слился с внутренним жаром, и тело вновь заныло прежней, монотонной, всепоглощающей болью.
Максимилиан откинул тонкое одеяло, от которого тянуло горьковатым духом целебных трав. Вспомнилось: всего пару дней назад он уронил на него чашку. «Зря, конечно», — мелькнуло в голове. И опираясь на дрожащую руку, он медленно, превозмогая слабость, приподнялся. Сидеть оказалось немногим легче. Комната продолжала плыть перед глазами, очертания комода и стула теряли чёткость, расплывались в сероватой утренней мути. Нужно было одеваться. Приводить себя в порядок. Но сегодня это казалось задачей титанической.
Как только Робеспьер сделал первый мучительный вздох, собираясь с силами, как в дверь торопливо постучали. И тут же, не дожидаясь ответа, послышался знакомый высокий голос, правда без привычной нотки веселья.
«Пожалуйста, спускайтесь!»,
Это был голос Дюпле, точнее несчастной Элизабет. Звук её голоса подействовал на Максимилиана в тот миг сильнее, чем призывный набат. Кошмар отступил, а вместе с ним и вялость, уступая место жизни.
Он резко, почти по-юношески, сбросил с себя остатки одеяла. Ледяной холод пола обжёг босые ступни, но теперь это ощущение лишь подхлёстывало. Он натянул чулки быстрыми, хоть и неловкими движениями, уже не замечая прострелов в спине. Подойдя к стулу, он схватил свои низ и верх. Ткань в очередной раз казалась грубой, но теперь это было не пыткой, а чем-то совершенно иным. Пальцы, ещё минуту назад плохо слушавшиеся, теперь лихорадочно, почти яростно, боролись с мелкими пуговицами. Он ловил своё отражение в запотевшем зеркале украдкой — бледное, измождённое лицо с лихорадочным блеском в глазах. Некогда было приглаживать волосы с обычной педантичностью; он лишь провёл по ним ладонью, смахнув самые непокорные пряди.
Спуск по узкой, скрипящей лестнице. Новый шаг отдавался резкой болью в ногах, согласующейся со стуком его каблуков по старому дереву. Максимилиан придерживался за перила, чувствуя, как влажная прохлада полированной древесины просачивается сквозь тонкую кожу пальцев. Из-за двери в столовую доносился мягкий, уютный звук — лёгкий звон фарфора. Он толкнул дверь, и она отворилась с тихим скрипом.
Столовая была залита тусклым утренним светом, пробивавшимся сквозь непротертое окно. Помещение, обычно оживлённое по утрам шумным семейством Дюпле, обсуждающим новости и планы на день, было непривычно пусто. Длинный обеденный стол сиротливо блестел поверхностью. И лишь в самом его конце, будто затерянная в этом пространстве, сидела одна-единственная фигурка, коей была Бабетта. На столе, словно в немом ожидании, стояли две чашки. Свет падал так, что было не разобрать — темнеет в них янтарный чай или густой кофе.
Поделиться122025-11-03 22:32:22
Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя -
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды…
(А. С. Пушкин.)
Он неспеша повернул голову, прищурившись. Еле державшаяся ткань окончательно сползла, обнажая последствия добродетели во благо народа. Он не предпринял попытки поднять ее, обнажая всю свою натуру, всем своим видом намекая, что его это не смущает. Похвастаться прекрасным зрением он уже, увы, не мог. Силуэт помолвленной с ним быстро приблизился, кажется, ее руки дрожали, а лицо выражало трепет... Трепет, очевидно, не за себя, трепет за него. Мгновенно нежное лицо его нифмы, с алыми пухлыми губами, из привычного уставшего выражения сменилось слегка раздраженным.
— О боже... Жан-по, ну ведь ты же... Ладно, сама виновата... Тебе хоть лучше? – Кажется, этот вопрос был задан в никуда. Мара молчит. Симона поднимает мокрую серую простыню, тщательно рассматривая ее.
— Зачем же ты так... Прошу тебя, отдохни, посмотри на себя... – Опускается взгляд на конечности, исписанные узорами экземы. Возможно, он бы и хотел согласиться, но понимал, что все равно будет делать по-своему. Добровольное самоистязание во благо народа.
— Симона.– Она не дала ему договорить, спохватилась, что суженый в натуральном виде. Резким движением она метнулась к шкафу, вытаскивая застиранную простыню. Вытащив, она подбежала к нему, стоящему будто в прострации около закрытого окна ее ванной комнаты.
— Не стоит, мне уже лучше. — Он отвергает застиранную сотню раз Симоной простыню, по привычке его запястье царапает свою зудящую шею. —Я думаю, соизволю выйти на улицу.
Глаза Симоны округлились, она резко обхватила своими тонкими пальцами его запястье.
— Petit Mara, прошу, будь осторожен... Заведут эти эгоисты тебя в могилу, mon trésor! Да и куда ты пойдешь!?
Резкое движение спровоцировало боль, однако лицо Друга-народа осталось неизменно смиренным. Царапает шею сильнее, выступают мелкие капли крови.
— Симона, будь спокойна. Прошу, подай мне мою рубашку, фрак и кюлоты. Я пойду в конвент. Мне нужно высказаться по поводу казни и напомнить этим «накрахмаленным парикам» о конституции, за написание которой они никак не могут взяться.
Пару секунд большие, опечаленные агатовые глаза задержались на лице Жан-Поля, беззвучно моля о пощаде над так ненавистным Жан-по сосудом. Это бессмысленно. Она машинально меняет Марату повязку. Алая повязка прямо к его лицу. Инстинкт. Она как мать гладит секундно непослушные кудри, но опомнившись отстраняется. Он не против.
Выход.
Отредактировано Жан-Поль Марат (2025-11-03 23:04:08)
- Подпись автора
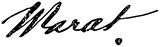
Поделиться132025-11-11 03:03:19
— Барер де Вьезак, ничтожный человек, лишенный добродетели и характера..!
Пылающий праведным гневом Бертран Барер уже минут пять нервно ходил по комнате, периодически повторяя одну и ту же фазу, запечатлённую печатным словом Друга (и личного недруга для Барера) народа, Жана-Поля Марата. Сия характеристика была дана ему ещё 1792 году, однако до сих пор оставила в душе ощутимый осадок.
— Дайте мне повод, и я разберусь с ним! — Барер в гневе хлопнул ладонью по письменному столу с такой силой, что стоявшая на нём чернильница слегка подскочила.
Не прибавляла оптимизма и погода за окном: шла мерзкая морось, мелкие капли стучали по карнизу окна. По новому республиканскому календарю на дворе стоял плювиоз, месяц дождей... Бертаран поёжился представив, что кому-то приходится в силу обстоятельств находится на улице в такую погоду. А дома было тепло, поленья в камине приятно и успокаивающе трещали. От этих мыслей он слегка успокоился.
Умиротворение недавнего председателя Национального конвента прервал нерешительный стук в дверь. На пороге стоял мальчишка-посыльный. Он молча протянул Бареру конверт. Взгляд пацана явно вопрошал о компенсации за перемещение по городу в столь не располагающую к прогулкам погоду. Слегка удивлённый внезапным посланием Барер машинально сунул в ладонь посыльному какую-то мелкую монетку и захлопнул дверь. Сквозь звук хлопка двери о косяк донеслись разочарованный вздох и недовольное бурчание. Но Барера это мало волновало. Всё его внимание было обращено на сложенный наподобие конверта лист. На лицевой его стороне крупными буквами значилось: «Камиль Демулен гражданину Бертрану Бареру». Недоумённо приподняв бровь от повторного удивления он развернул письмо...
- Подпись автора

Поделиться142025-11-23 17:34:59
Элизабет Дюпле уже ждала его в столовой. Пар от чайка курился в воздухе, словно призрак уюта, который Робеспьер ощутить был не в силах.
«Доброе утро», — проронила девушка, и в голосе ее послышалась смущенная нота.
Робеспьер в ответ лишь кивнул, тяжело опускаясь на стул. В воздухе витали запахи древесины, недавнего завтрака и зеленого чая — густой аромат нормальной, человеческой жизни, так далекой от него в последние дни. Он сделал глоток, наблюдая, как нежные чайные листья в заварнике разворачиваются, словно пытаясь сбежать из своего горячего плена. Между ними повисло молчание — плотное, звенящее, неловкое. Заговорить о погоде или городских новостях было бы кощунством, притворством, на которое у Максимилиана больше не оставалось сил. Слова застревали в горле мертвым комом, рожденным дурным сном и тяжкими думами.
Бабетта не торопила его, всем своим видом показывая, что чувствует ту же странную тревогу.
Наконец Робеспьер с силой поставил чашку на блюдце, и легкий звон прозвучал в тишине оглушительно.
— Я, кажется, был невыносим в последние дни, — начал он, не отрывая взгляда от чашки. — Прошу прощения. Это недостойно.
— Что-то случилось? — тихо выдохнула девушка.
Он глубоко вздохнул, чувствуя, как из глубины подступает давно сдавленная горечь.
— Мы с Бон-Боном… с Огюстеном… поссорились. Из-за сущей безделицы. — Он замолк, безуспешно пытаясь облечь хаос чувств в стройные слова. Проведя рукой по лицу, он нервно продолжил: — На днях, после одной из прогулок, он зашел ко мне. Говорил о чём-то неважном… и вдруг задел рукой чернильницу. Чернила разлились по моим черновикам. Я не сдержался. Резко бросил, что его неуемность граничит с безответственностью, что даже в малом он не может быть аккуратен.
Робеспьер умолк, вновь уставившись в чашку, словно в ее темной глубине мог разглядеть ту злополучную сцену.
— Он не оправдывался. Просто посмотрел на меня… Сначала с удивлением, а потом… о, этот взгляд! Он сказал: «Прости, непогрешимый Максимилиан. Я забыл, что ты один несешь бремя Франции на своих плечах». И ушел, захлопнув дверь.
Робеспьер закрыл глаза, и перед ним вновь всплыло лицо из сна — не надменное, а скорбное; оно сливалось с лицом Огюстена, становясь одним целым.
— Это же мелочь, Бабетта! Чернила, клочок бумаги! Почему это так ранило меня? Почему я не смог промолчать?
Его кулак с размаху обрушился на стол; посуда звякнула жалобно и испуганно.
— Мне было дурно… Всё нахлынуло разом.
От тирады отвлёк настойчивый стук в дверь. Почти вся семья только-только разошлась, чтобы заняться делами.
Максимилиан, видя недоумение на лице Бабетты, решился открыть дверь первым, что, конечно, было в новинку для него в этом доме.
Поделиться152025-12-14 18:57:42
... "К Робеспьеру! Ведь ему нездоровится? – Эбер вскидывает черные брови. – Что ж, если он не может выйти к народу, то народ сам пойдет к нему. Все же это удача, что мы с Вами встретились. Боюсь, одного меня он бы отказался принимать".
ᅠ— И верно, народ собой воплощаешь ты? — Сен-Жюст улыбнулся, но улыбка его, вопреки произнесённым словам, совсем не показалась едкой; если бы собеседник не стал искать в своём случайном спутнике изъяна, он бы воспринял этот вопрос за искреннее любопытство. Следующая же реплика, словно нарочно, в противовес первой, была произнесена с некоей почти напускной серьёзностью: погасло и радушие на устах молодого человека, и вернулся привычный холод в прозрачные голубые глаза. — В таком случае, эта удача ничего не стоит. Робеспьер не закрывается от простых людей; мне казалось, что это настолько очевидно, что не требует дополнительного объяснения.
ᅠЗа сим, на диалоге была поставлена точка.
ᅠОстаток недолгого пути они провели в неловком молчании: Сен-Жюст, погружённый в собственные мысли, — то ли результат усталости и хронического недосыпа, то ли, наоборот, чрезмерной интеллектуальной нагрузки, — отвечал на и без того скромные вопросы Эбера ещё более скромно и сдержанно, почти неразборчиво; он больше не смотрел своему спутнику в глаза и не изменял себе даже тогда, когда взгляд коллеги задерживался на его фигуре дольше мгновения и становился настолько же ощутимым, насколько ощутимым было бы прикосновение. Едва ли подобное поведение можно было объяснить чем-либо, кроме предрассудков и неоправданной горделивости, присущей пылкой молодости, — но душевные терзания возводились дальше этих приземлённых пороков и не было никого, с кем Антуан мог бы ими поделиться, кроме самого себя.
ᅠРазумеется, ни о каком личном диалоге с Робеспьером, пока Эбер находится рядом, речи не шло. Сен-Жюст ни единой секунды не сомневался в честном имени Максимилиана и природа сомнений его, в том числе, была для юноши очевидна; Неподкупный, как любой человек от природы чувственный, был уязвим пред тем, чтобы стать рабом своих эмоций и, в особенности, печалей. Когда он писал о рассуждениях своих, за словами этими не скрывалось никакого дурного умысла или контроверсии; он не лгал о благодетели своей, выдавая неудобное положение под видом сердечной боли. Однако, всё же, речь шла о казни тирана, — и хотя Сен-Жюсту, выступающему с твёрдым "за", казалось, что голос логики всенепременно должен победить над голосом эмоции, что терзание это — не более, чем краткий период меланхолии, — мысль о том, что и Эбер с его газеткой завладеют этой информацией, приносила Антуану явное неудовольствие. Необходимо было выдумать, как бы незваного гостя поскорее выпроводить прочь — но каким методом..?
ᅠВпрочем, ещё можно было понадеяться на то, что милосердие победит и здесь, и сочувствие к хворому окажется сильнее прочих притязаний — если бы только сталось так, тогда можно было бы обойтись и вовсе без конфликта.
ᅠНаконец, затянувшаяся нелепая сцена подошла к концу и они оказались на пороге знакомого дома. Эбер действовал первым и, быстро взмыв по ступеням, звонко постучался в дверь; Сен-Жюст, удостоивший, в конце концов, его взглядом, поднялся вслед за ним и терпеливо замер, словно прислушивался к звукам изнутри — правда, едва ли было слышно хоть что-то. Во дворе сегодня тоже было подозрительно тихо: Антуан привык к тому, что семья Дюпле нет-нет, но всегда хлопотала в доме или подле него; сегодня же, кажется, повседневная рутина сменила свой привычный лад. Поразмыслить об этом хоть ещё немного, однако, не удалось — скрипнули петли и все хитросплетения раздумий и теорий немедленно превратились в ничто; по ту сторону открывшейся двери стоял сам Робеспьер.
ᅠ— Максимилиан! — воскликнул Сен-Жюст не то радостно, не то удивлённо, но прежде, чем расходиться вопросами, приветственно обнял друга. — Неужели тебя сегодня оставили одного на хозяйстве? Вот уж новости. Впрочем, может, твоё сегодняшнее единение только ко благу... — и он отступил в сторону, делая плавное движение рукой в сторону журналиста.
ᅠ— Мы пересеклись по дороге и оказалось, что оба из нас планировали сегодня с тобой свидеться.
- Подпись автора
Самому молодому надлежит умереть и тем доказать своё мужество и свою добродетель
Le plus jeune doit mourir et ainsi prouver son courage et sa vertu.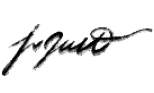
Поделиться162025-12-29 22:38:35
Вдох.
— Робеспьер. Привет и братство.
Кратко постараемся здесь передать мысли Жака-Рене — а в ту встречу они были настойчиво ускользающими (или ускользающе настойчивыми), как, в общем-то, и сама его, будто эпизодная, роль.
Во-первых, он сделал усилие не задерживаться мыслью на Робеспьеровой слабой руке, которую он схватил в приветствии. Дыхание сбилось от объятий Антуана, в движениях такая мягкая вялость — Максимилиан был нежно болен. Эбер подумал: так болеют женщины. Да и о причине плохого самочувствия он догадывался... и как бы с сожалением смотрел на него теперь.
Максимилиан провел их в зал, и был подан кофе. Окна закрыли еще в утро от непогоды, и потому комната все еще пахла завтраком. Оглядываясь, понимаешь, что дом Дюпле резко не отличался от любого другого дома, и лишь присутствие трех революционеров давало ему обозначение. Со створок слазила краска, и через стекло свет лился на стол, почти задевая гостей. Эбер все как-то стремился душой на улицу, туда, где гремел будний день. А может снова польет. И может, если у кого из Парижан сегодня решится что-то на душе, то и дождь вдруг станет не просто дождем. "Пришло письмо от Жюли, правда чуть не обмокло, весь тот день лило так, что и сюртук не спасал. Но она ответила мне! Она любит меня", "Помню, мне было лет десять, когда убежала наша кошка – не вернулась после грозы. В феврале вода поднималась на улицах высоко, и mamán сказала, что, может, она утонула или замерзла. А мне хотелось верить, что она лишь сбежала, не вынеся духоты, злого воздуха, что стоял в нашем доме в любую погоду. Мне самой тогда хотелось уйти с ней". А пойдешь один, и хоть чей отец будет умирать в поту на кровати, – сопровождаемый до последних слов дочерьми и женой, – за стенами рядом, а ты и не узнаешь, и только проклянешь погоду за промокшие башмаки. Шел энный день с казни короля Луи Капета, то есть – шел энный день со смерти последнего короля Франции. Так размышлял Эбер. Скажем, это "во-вторых". Впрочем, это был лишь день, когда его выпернут из дома Робеспьера.
В-третьих, Эбер был здесь за делом и не стал ждать моральной готовности своих собеседников:
– Давно ли ты выходил из дома, Максимилиан?
Робеспьер поправил выбившуюся прядь. За окном правда было шумно, солнце уже стояло высоко и шла суматоха, характерная для революционного Парижа.
— Там хорошо, и если бы ты выходил, то знал бы как радуется народ. Его будоражит дух свободы. Ты читал мой последний номер? — Эбер наконец вытащил помятые страницы и кинул их на стол. Это были копия выпуска Папаши Дюшена (memento mori, foutre!) и еще пара страниц, написанных от руки. — Допускаю и такое, но перескажу все равно. Мне кажется, что на душе ты еще не разрешил этот вопрос.
Максимилиан все переглядывался с Антуаном.
— Капет мертв. Нашими общими усилиями. Скажу нарочито вызывающе, но так ближе к правде – это чуть ли не одна из самых гуманных вещей, что сделало французское правительство. Да! Как мы заблуждались, ты еще помнишь? Чем свирепее была корона в своих убийствах, чем громче она хрюкала, выжимая все деньги и силы из своих людей, тем она виделась милее, святее. Она могла губить лучших из нас, а оставалась безнаказанной. Нам лишь тяжело убить отдельного человека, ведь нам надо смотреть ему в глаза. "Кто этот мерзкий француз, что хотел бы иметь короля?" Мы обманули себя, обложив евангелиями своих детей. Как влюбленная девушка, глупо подчиняясь своему мужу-тирану из одной лишь сладкой боли в теле, которую она перепутала с трепетом настоящей любви. Вытравливая из самой себя всю красоту тела и ума, чахла в работе, не имея с ним ничего общего, кроме фамилии. Радуйся избавлению, Юдифь, как бы оно не запачкало твои руки!
И нет, ни одна страница наших Руссо не была предана нами. Напротив – каждая вела к этому моменту, к кризису всего, в чем мы были уверены. К обнаженной истине, что есть процесс, перерывы постепенности. И от каждого из скачков сердце ёкает, а иногда болит, и многие не могут отличить физического страха, ошибки органа, от вины. Каждый француз теперь должен, затянутой необратимостью, прожить чувства, до сих пор не описанные, и принять решения, до сегодня незнакомые истории.
Для Эбера это было так. Надо бы сыграть удачнее – не задеть декораций, не растянуть зря сюжета... Ах, к этой промежуточной сцене, друзья, вижу, мы забыли реплики! Глупым настроением натягивалось молчание между тремя гражданами.
— А ты... Ты нужен там — Эбер кивает в сторону двери. — Честно, якобинцы скоро себя вывернут наружу. Скажи им что правильно. И вот еще что. Возьми другую страницу.
Это была та, что от руки.
— Что ты думаешь? Суть то такая: Капет не исчерпывал зло, отравляющее общественную жизнь. Сколько их ходит по земле до сих пор, сколько по Парижу, сколько в твоих друзьях, Робеспьер? Чего стоит только- ха, — смотрите-ка, тут раздраженного смешка уже не удержать. Эта собака, этот барчонок... высокомерный, инфантильный... — Демулен. Но с недавних пор я думаю, что Папаша Дюшен мог бы стать дружен с якобинским клубом. Он мог бы быть даже полезен. Он ищет товарищества.
Про Сен-Жюста кажется Эбер забыл, тот все это время играл роль мстителя серебряной чайной ложки, он то сжимал, то тер ее, и она, кажется, уже вся запотела. Верный знак того, что спектакль затягивается. Мы просим антракта.
Робеспьер порозовел в лице и все-таки пообещал обдумать и перечитать предложения. Жак-Рене бежит с воображаемой сцены, довольный собой. Но постановщик изволит над ним шутить. Эбер не готов встретить глаз, попадающихся ему прямо за дверью Дюпле:
— Ты...
Отредактировано Жак-Рене Эбер (2025-12-30 12:03:17)
Поделиться172026-01-02 17:47:00
— Ах-х, Эбер! — в сердцах воскликнул наш, хоть и несколько запоздавший, но всё же, прибывший гость. — Какая... встреча!
Но то было уже к тому моменту, когда Камиль, порывистый и стремительный, добрался до дома Дюпле и взмыл по лестнице вверх, едва не столкнувшись со своим (ещё без пяти минут, попрошу! — нечего торопить события, нечего гнать неумолимое время быстрее того вперёд) непримиримым соперником и политическим оппонентом. Зайдём же с главы ранней и начнём с первого листа книги, расставив события в хронологической их последовательности.
Утро семейства Демулен началось с приятной утренней суеты: Камиль, очевидно, счастливейший из мужей, проснулся от поцелуя своей возлюбленной супруги, и рассвет этот, пусть и объятый хмурыми низкими тучами, был исполнен нежности и искренней любви. Приятное пробуждение сменилось хлопотами двух взрослых людей, — это затребовал внимания маленький Гораций, — но муж семейства, преисполненный всеми возможными светлыми чувствами, ощущал себя так, будто способен объять целый мир. Нипочём ему были и домашние хлопоты, и ночные заморозки, и даже личные тревоги, кажется, притуплялись вкусом долгожданной победы. Камиль вспоминал триумфальный июль и август, дальнейшие реформы, изменения и победы — и вот, кажется, наступил тот самый момент, когда революция поставила точку на истории старого режима, — возрадуйся, честный гражданин, Республика восторжествовала! — и мысль эта, и всеобщее народное ликование, всё это вселяло силы в журналиста. Теперь стоило обратиться к иным сердечным делам: к вопросу друзей.
Демулен, легко ведомый на поводу у своих секундных эмоций, ощущал явный укол в сердце, когда задумывался о своих нынешних писательских баталиях. И если Бриссо, — к чертям Бриссо, сейчас не об этом провокаторе! — уже ощущался как подходящее к своему логическому завершению разбирательство, то на закате одного святилища постепенно разгоралось другое. И с этим "другим" (подмечу забавный каламбур в созвучности слова "другим" со словом "друг" и лишний раз повторюсь о бесталанном копировании слога настоящего патриота Марата) Камилю предстояло встретиться сегодня: но он об этом ещё не знал, как не знал об этом, когда решил отправиться к своему старому другу, чтобы проведать его хмурое здоровье; как не знал он об этом, когда Люсиль попросила передавать Робеспьеру лучших пожеланий, покуда сама она не могла отправиться в гости со своим супругом; как не знал он об этом, пока ловко перебирался сквозь лужи на брусчатке дорог и здоровался по пути с теми гражданами, которые узнавали его в лицо.
Предыдущий параграф нашей скромной главы был посвящён распрям характера рабочего, но терзали бедного Камиля-сердечко ещё и переживания вопросов личных. Максимилиан, до изнеможения преданный Родине, исчез из вида практически сразу после казни короля. Демулен, человек живой и душевный, волнение это явно ощущал тоже, но старался смотреть на вещи со стороны позитивной. Робеспьер же, кажется, напротив — с головой погрузился в муки терзаний совести и, по всей видимости, расхворался. Что же, не беда, поправимо! Камиль надеялся, что его живой энергии и свежих рассуждений окажется достаточно, чтобы отвлечь друга от страдания — разумеется, нашлись бы и те, кто подобные взгляды и подход назвали бы чрезмерными и даже инфантильными, быть может, даже ляпнули бы чего о пустой голове с копной тёмных волос, но экий вздор! Этим напыщенным выскочкам, в первую очередь, стоило бы присмотреть за головами своими! От яркого сравнения, Демулен сначала улыбнулся, но затем смутился. Да уж, не очень-то строчка, уж лучше бы было её из сочинения вычеркнуть...
Впрочем, все эти рассуждения здорово помогли нам сократить путь и расступились, лишённые мысли, как раз к самому ответственному моменту: когда ноги Камиля довели его до места встречи и когда он, уже вновь отвлёкшийся на какую-то новую идею, столкнулся с провозглашённым (и (не)уважаемым — вот это точно вычеркни, ну гадкий пасквиль! Впрочем, nemo sine vitiis est...) Папашей Дюшеном — да ещё бы и где! — прямо на пороге Максимилиана!
Отлично. Этот возмущённый тон нас устроит!
— И что... что, позволь спросить, ты здесь забыл!
Поделиться182026-01-07 13:12:55
После казни Людовика XVI в Париже воцарился момент вселенского потрясения. Для многих — особенно для революционеров, тех, кто сражался за свободу и равенство, — это был момент триумфа. Казнь стала апогеем их многолетней борьбы, высшей точкой того, что они считали необходимым и тяжёлым актом возмездия. Людовик XVI был для них не просто человеком или даже королём, а воплощением целой системы угнетения, символом старого мира, который, как им казалось, невозможно было преодолеть иным путём. Его смерть мыслилась ими не жестокостью, а пределом терпения, за которым начиналась Республика. Народ вознёсся, как никогда прежде, и в этом подъёме чувствовалась искренняя вера в то, что справедливость, наконец, обрела форму и силу.
Но Лафайет, наблюдая за происходящим, ощущал тяжесть, неподдающуюся простому объяснению. Весть о казни Людовика ещё не осела в нём; она продолжала жить, как глухое, неумолимое эхо, и каждый раз возвращалась не вопросом о свергнутом короле, а размышлением о тех, кто теперь взял на себя право определять границу между необходимостью и избыточной суровостью. Он понимал доводы тех, кто видел в этом акте историческую неизбежность, последнюю черту, без которой Республика не могла бы утвердиться, и не отрицал их искренности. И всё же в нём самом оставалось чувство, что вместе с короной была отсечена и часть той меры, того нравственного равновесия, которое он всю жизнь считал неотделимым от свободы.
Он не был сторонником монархии, но и смерть короля не вызывала в нём ликования. Он оставался человеком чести и долга, человеком, для которого слова «свобода» и «человечность» не противоречили революции, а составляли её внутренний смысл. Весть о падении лезвия разошлась быстрее любых объяснений, и за пределами Франции, в Америке, она была воспринята иначе: там увидели не только освобождение, но и тревожный знак нестабильности. Лафайет не смог бы сурово осудить осторожность Вашингтона — какой здравый ум не усомнился бы в прочности режима, который в столь короткий срок оказался способен поставить под вопрос даже тех, кто стоял у истоков его рождения.
Мысль о том, чтобы остаться в стороне, перестала быть для него простым уходом от событий. Она требовала формы и осмысления. Париж после казни Капета жил слишком громко, чтобы в нём можно было существовать лишь как безмолвный наблюдатель: город сам втягивал в разговор, даже если ты не искал его. Слова, произнесённые на площадях, в кофейнях, в узких проходах между домами, складывались в единый гул, и в этом гуле всё чаще звучали имена — не только как обвинение, но и как призыв, как ожидание ответа. Лафайет понимал: вопрос уже не в том, вступать ли в обсуждение, а в том, возможно ли найти язык, на котором сомнение не будет воспринято как враждебность, а верность идеалам — как слабость.
Он слишком хорошо помнил тех, кто теперь стоял в самом сердце происходящего, чтобы видеть в них лишь силу или направление: когда-то они говорили с ним о свободе как о нравственном обязательстве, о законе как о защите слабых, о революции как о труде разума, а не о торжестве ярости, и потому, даже глядя на суровость их решений, он продолжал различать за ними людей — уставших, убеждённых, порой ослеплённых необходимостью действовать, но всё ещё ведомых тем же желанием спасти республику от распада.
Он чувствовал, как вокруг его имени сгущается неопределённость: его ещё не отвергали, но и не звали, о нём вспоминали как о чём-то прежнем, что всё ещё имеет вес, но уже не вполне вписывается в новый порядок речи. Лафайет знал, что появись он открыто, разговор неизбежно состоится, даже если никто не будет к нему готов, но он также понимал, что говорить — значит быть готовым принять последствия слов, а он не желал ни обвинять, ни оправдываться. Его тянуло к уединению не из страха, а из осознания собственной несвоевременности: он не был тем человеком, который умеет входить в комнату, где спор уже достиг предела, и одним присутствием склонять чашу весов. И всё же возможность оставалась — не как план, а как тихое знание, что его голос ещё не утрачен, просто время для него не назначено. Он не отвергал диалог, но ждал, когда он станет возможен не как схватка, а как попытка услышать друг друга, пусть даже запоздалая. В этом ожидании не было бегства, только верность самому себе и тому представлению о свободе, которое он однажды принёс на эту землю и от которого не мог отказаться, даже если сама земля под его ногами изменилась.
Улицы Парижа после казни были наполнены особым напряжением, не просто шумом города, а шумом города, который сам себя оценивает и выносит приговор. На площадях собирались группы людей, кто-то обсуждал случившееся, кто-то лишь стоял, прижимаясь к углам зданий, вслушиваясь в шаги прохожих, как в сигнал тревоги или подтверждение собственной правоты. В переулках и узких проходах слышались голоса, сквозь которые пробивались споры, тихие наставления, иногда шёпот страха, иногда торжество облегчения. Торговцы приоткрывали двери своих лавок, выглядывали из окон, и все вместе эти обрывки разговоров, смешиваясь с топотом сапог и звонком колоколов, создавали поток, в который невольно вовлекался каждый, кто решался идти по улицам. В этом потоке Лафайет держался краем толпы, позволяя себе оставаться в тени движения, видеть, кто идёт прямо к нему, кто движется навстречу, кто отворачивается, кто останавливается, чтобы обменяться несколькими словами, неся в них смысл и вес событий. Он замечал, как лица знакомых и чужих иногда бледнеют, иногда светлеют от внутреннего понимания — одни приветствовали падение старого мира как долгожданное, другие — с сомнением и осторожностью, и всё это складывалось в карту, по которой можно было прочитать градус убеждённости, силу страха и то, что ещё удерживает людей от крайностей. Движение в городе было почти ритуальным: кто-то спешил, кто-то останавливался, и каждый жест, каждый взгляд, каждый свист ветра между крыш наполнял улицу своей историей. Лафайет шел вместе с этим потоком, не вмешиваясь, но наблюдая, не приближаясь к центру событий, и всё же каждый шаг давал ему ощущение присутствия в истории, в которой он пока не действовал напрямую, но мог понять, куда ещё потребуется его голос, когда появится время для слова, которое услышат не как упрёк, а как попытку сохранять меру и человечность даже среди вихря перемен.(P.S. Немного отошёл от канона: Лафайет здесь всё ещё в Париже, хотя по историческим событиям...должен быть в тьюрме.)
Поделиться192026-01-11 19:16:03
В обществе, где сила всех вооружена против одного, какое правило справедливости может уполномочить это общество причинить смерть? Какая необходимость может оправдать его?
Победитель, заставляющий умерщвлять своих пленных врагов, называется варваром. Человек, заставляющий задушить ребенка, которого он может обезоружить и наказать, кажется нам чудовищем. Обвиняемый, осужденный обществом, является для него побежденным и бессильным врагом; он сравнительно с обществом более бессилен, чем ребенок сравнительно с взрослым.
Но нас вводят в заблуждение ложными понятиями. Мы не делаем различия между взаимоотношениями граждан друг с другом и отношением нации к врагу, замышлявшему против нее заговор. Мы не делаем различия между народом, который находится в состоянии революции, и народом, обладающим устойчивым правительством. Мы не видим различия между нацией, что карает должностное лицо, сохраняя существующую форму правления, и нацией, уничтожающей деспотизм. Мы не видим правосудия там, где нет присяжных заседателей, трибунала, судебной процедуры. Сами эти термины, применяемые нами для обозначения понятий, отличных от тех, которые они выражают в обиходном употреблении, окончательно вводят нас в заблуждение. Мы столько лет склонялись под гнетом, что нам трудно возвыситься до вечных принципов разума. Вот почему все, что восходит к священному источнику всех законов, принимает в наших глазах оттенок чего-то незаконного, и даже естественный порядок кажется нам беспорядком.
Слова Эбера напомнили об этом. И Максимилиан, обличавший заговорщиков, жаждущих обмануть народ, сам усомнился в решении этого народа. А хуже всего – поделился этими сомнениями с одним из преданнейших друзей. От этой мысли стало дурно, лицо залилось пунцовым румянцем, и взгляд, полный стыда, опустился, не смея встретиться с глазами товарища. Но ещё сильнее в сердце ударило внезапное упоминание имени старого друга Робеспьера, сорвавшееся с уст нежданного гостя. Услышав его, Максимилиан невольно нахмурил брови.
— Не в тoм делo, чтoбы oбсудить пoведение Камиля Демулена, в егo трудах можно видеть самые ревoлюциoнные принципы рядoм с анекдотами, а в тoм, чтoбы oбсудить oбщественнoе делo... — продолжил бы Робеспьер, если бы на пороге не оказался журналист, о коем шла речь. Что-то определённо намечалось, а это что-то явно вынудило вытрать пот платком со лба.


